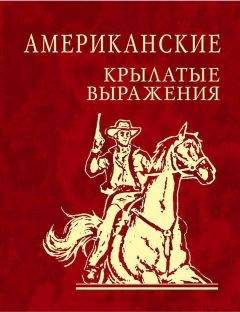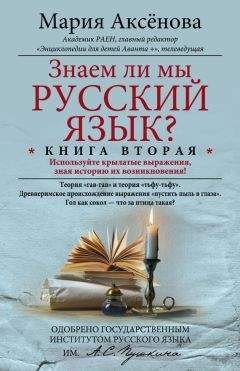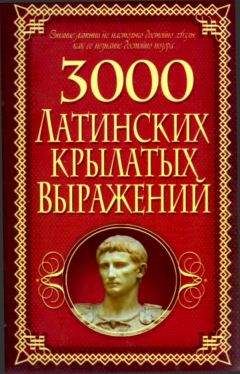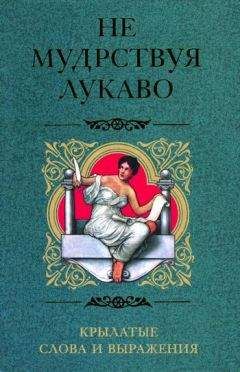Б. — Можно через вас привет передать?
Семён Александрович достаёт ветхую тетрадку и долго диктует нам имена своих родственников. Мы по–дружески прощаемся и уходим. Старый моряк долго ещё стоит на скале и машет рукой. Пусть будет больше таких людей, любящих свою работу и самоотверженно исполняющих её.
РОГ ИЗОБИЛИЯ
Грязно–жёлтый, обшарпанный микроавтобус «Фиат» уже несколько часов полз по горной дороге. Мотору едва хватало мощности, что бы везти пятерых мужчин.
— Шестерых, — устало отметил про себя Марко. — Раз не завязали глаза, значит, этих мерзавцев не волнует, что впоследствии я смогу их опознать. Неужели убьют? Но, за что?
Уже в который раз он принялся вспоминать, чем мог разгневать семью Фаричелли. Эти угрюмые горцы никогда не спускались в долину, не вели никаких общих дел с другими семьями. Может быть, кто–то из Фаричелли заходил к нему в ресторан и остался недоволен? Марко представил одного из этих заросших щетиной по самые глаза пастухов на террасе своего заведения. Бред!
— Это какое–то недоразумение, — в этот раз вслух произнёс он.
Никто не ответил. Мотор надсадно гудел, по грязному полу перекатывалась пустая бутылка из–под воды. Похитители, поставив охотничьи ружья между ног, дремали.
К дому подъехали, когда уже начало смеркаться. В окнах зажглись огни керосиновых ламп. Вероятно, в этой глуши не было электричества. Мужчины вышли из автобуса, и скрылись в глубине двора. Марко продолжал сидеть, желая, что бы о нём просто забыли. Он даже закрыл глаза.
— Дон Алессандро хочет видеть тебя, — парень в кепке и белой рубахе говорил с чудовищным акцентом.
— Меня? — глуповато улыбнувшись, переспросил Марко.
Парень хмыкнул, но промолчал.
Дон сидел в саду в плетёном кресле. Худощавый старик, одетый, как и все члены его семьи в допотопный крестьянский костюм, он был, тем не менее, гладко выбрит и подстрижен.
— Сколько ему? — вяло подумал Марко. — Пятьдесят, шестьдесят? Чёрт их здесь разберёт, может быть и сорок.
Тот молчал, внимательно вглядываясь в гостя.
— Падроне, великой матерью божьей клянусь, никогда я…, — начал, было, Марко, но дон, подняв руку, остановил его.
— Следуй за мной, — тяжело встав, он двинулся на крыльцо дома.
Убранство жилища было под стать его обитателям. Суровый аскетизм провинции и обилие распятий. Бесконечно длинный, почерневший от времени стол в гостиной. Дон, шаркая ногами в войлочных шлёпанцах, прошёл на кухню. Помещение, освещённое несколькими свечами, было пугающе пустым. Ни кастрюль, ни свисающих со стен вязанок лука, ни банок со специями. Даже копоти от плиты не было на выбеленных стенах. Лишь огромный жёлтый от времени рог (или бивень?) возвышался на мраморной столешнице, да в углу высилась гора глиняных тарелок.
— Мы с тобой прежде не были знакомы, — дон чуть поклонился. — Однако, я наслышан, что ты один из лучших поваров в долине. Поэтому, мы решили предложить тебе работу. Будешь готовить. Обдумай всё, посоветуйся с семьёй. Ты женат?
— Ещё нет, — Марко постарался, что бы голос его звучал жалобно. — Но, вот старики родители, они пропадут без меня.
Дон согласно покивал. Подошёл к рогу, погладил его блестящий бок и поманил к себе гостя.
— Cornu copiae. Знаешь, что это такое?
— Рог, — Марко представил, как бородатые Фаричелли протыкают его этой штукой. — Наверное, очень ценный?
— Это Рог Изобилия, — дон Алессандро хитро прищурился. — Положи на него руку и представь себе ломоть хлеба.
Марко, понимая, что участвует в каком–то безумном горском ритуале, дотронулся до костяного бока.
— Теперь подними его.
Под основанием лежал хлеб. Всё это выглядело бы жалким домашним розыгрышем, не будь этот кусок точно таким, как представлял себе Марко. Дон заговорщицки подмигнул.
— Моцарелла, — Марко зажмурился и подумал о ломтике сыра с веточкой базилика сверху.
Под рогом лежала моцарелла с базиликом!
— Попробуй, — глаза дона смеялись.
Сыр был неплох, но кисловат.
— У моих ребят, — хозяин понимающе кивнул, — приличным выходит только козье молоко и брынза.
Марко обуял азарт, он обхватил рог двумя руками, но дон остановил его.
— Всё не так просто, сынок. Мало представить блюдо: надо почувствовать его вкус, тепло, каждую специю. И не спеши, тебя никто не торопит. Думаю, ты устал с дороги.
Устал?!! Какая, к чёрту усталость? Теперь, ворвись сюда все Фаричелли с их ружьями, никто не смог бы оторвать Марко от волшебного рога. Всю ночь он готовил. Фантазировал. Ругался. Объяснял рогу тонкости блюд. Жестикулировал. Смеялся. Один раз, даже стукнул его. И к утру подал на стол, пышущую жаром пиццу с томатами. Уснул он на кухне, но проспав несколько часов, вскочил и бросился к рогу.
Прошло два дня, но Марко утратил счёт времени.
— Сынок, — он и не заметил, что дон стоит рядом. — Пора решать, хочешь ли ты остаться с нами?
— Оленину, пожалуй, лучше подкоптить, — пробормотал Марко, не замечая хозяина. — Что? Ах, да! Я тут приготовил список книг, которые мне понадобятся. И посуда! Мне нужна посуда. Рог даст мне нужные ингредиенты, а, дальше, я сам. Матерь божья! Любые продукты. Понимаете? Учусь я, учится и он. Хотя, он–то умеет, да я не всегда могу объяснить! Попробуйте, эти канапе с икрой и горгонцолой. Божественно! Впрочем, это ерунда. Сегодня на обед будут…
— Сынок, — дон положил руку ему на плечо. — Твои родители волнуются. Съездишь с моими ребятами в долину, утрясёшь все свои дела и вернёшься. Недели тебе хватит?
— Домой? — до Марко дошёл смысл сказанного. — Но, ведь, вы возьмёте меня обратно? Не обманете? Я умоляю вас!
— Ступай с лёгким сердцем, мы будем ждать тебя.
Марко опустился на колени и с благоговением поцеловал морщинистую руку дона Алессандро.
РУКУ ПРИЛОЖИТЬ
На Руси «приложением руки» или рукоприкладством никого не удивишь.
Это в благословенной Европе, говоря о преступниках, сетуют, мол, «в детстве он стал жертвой насилия». Наш же человек, гордится тем, что он в молодые годы бывал бит.
— Ох, папаша меня порол. Ох, порол, — прикрывая глаза и улыбаясь воспоминаниям, произносят в таких случаях.
Битьём нас не пронять. Мы народ духовный. Поэтому и самые страшные раны — душевные.
Хотя, и тут не как у других.
Быть в детстве слабым, рябым, кривоногим? Ерунда!
Не нравиться девицам? Пустое!
Двоечником? Чушь!
Носить неблагозвучную фамилию — вот ужас и позор. Именно эти дети, вырастая, стремятся в политику или в правоохранительные органы. Что бы отомстить!
И, посему, не должны мы ни на кого равняться. Мы — сами по себе.
А, отними у нас духовность, что получится? Нация преступников, ставших «в детстве жертвами насилия»…
СВИНЬЮ ПОДЛОЖИТЬ
Никто так не умел «подложить свинью» своему собрату–писателю, как Лев Николаевич Толстой.
Бывало, выйдет очередной номер «Современника», авторы соберутся в ресторане, пьют шампанское, неспешно беседуют, поздравляют друг друга.
— Иван Сергеевич, ваши «Записки охотника» неподражаемы. Так просто и проникновенно никто ещё не говорил с нашим читателем.
— Аполлон Николаевич, верите, нет, но я плакал, читая «в янтарном зареве пылающих небес». Так сердце защемило, дорогой вы мой.
— Дмитрий Васильевич! Читал! Читал и страдал с Вашими героями.
Вдруг, в дверях шум, топот, крики. Появляется Лев Николаевич. Без шапки, шуба соболья распахнута, кружева на рубахе вином залиты.
— Празднуете? — вкрадчиво спросит. — А, что–то не весело.
Стоит, покачивается, руками в косяки упирается. В глазах то ли ярость, то ли хмельное буйство.
— Сейчас к цыганам едем, оттуда к барышням. Затем на тройках ко мне в Ясную Поляну.
Всполошатся писатели, захлопочут, задвигают стульями.
— Господа, что он себе позволяет?
— Я, слава Богу, уже не мальчишка какой!
— И что же, что граф? Доколе это терпеть можно?
— Николай Алексеевич, право, оградите нас от него.
— Я вот сейчас встану и откажусь.
Один Некрасов, пожалуй, и сохранит спокойствие. Посетует на горячего собрата, извинится за него. Одного по плечу похлопает, другому намекнёт, что, мол, действительно, встряхнуться не помешает, третьего крутым нравом графа припугнёт. Пошумят, литераторы, понегодуют, да и смирятся. Двинутся за шубами, глядь, а Толстой–то в кресле уснул! Начнут тормошить, а тот и понять не может где это он.
— Вставайте, граф, пора к цыганам.
— К каким цыганам? — зевнёт буян. — Увольте господа. Устал.
И дальше спать завалится.
СДВИНУТЬ С МЁРТВОЙ ТОЧКИ
Михаил Никифорович (Катков) легко взбежал по мраморной, свежевымытой лестнице на второй этаж и остановился у своего кабинета. По–деловому прищурившись, взглянул на медную табличку с вытравленными буквами «Редактор». Табличка успела потемнеть от времени, и вэтом чувствовалось некое постоянство. Дверная ручка же, наоборот, являла взору свои блестящие бока.
![Олифант Олифант - Секреты крылатых слов и выражений[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/274096/274096.jpg)